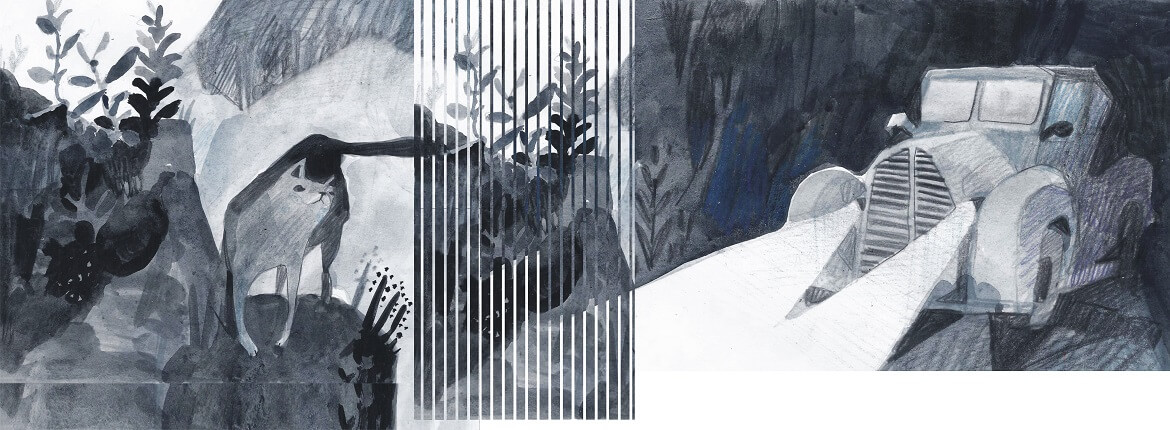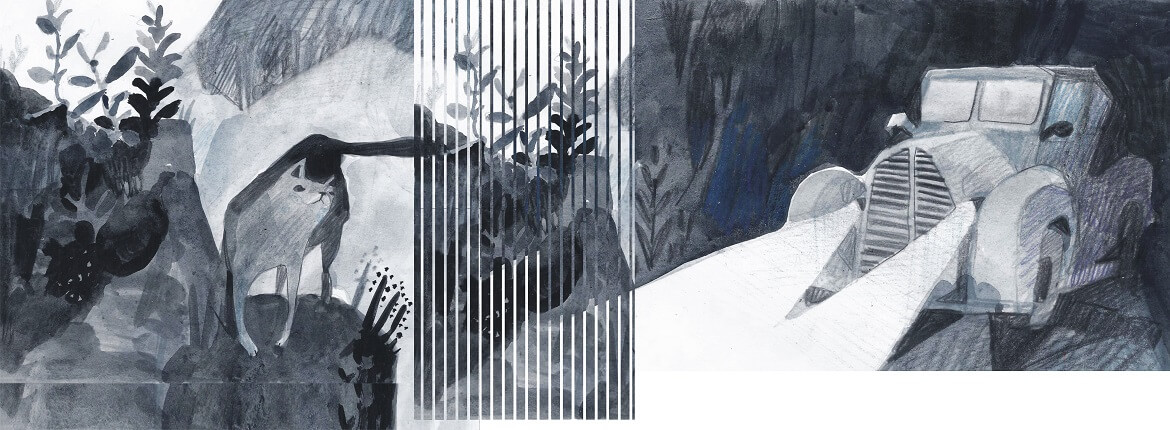Художник:
Повесть
I
Я рад, что вы здоровы и что в Сибири неплохо с продуктами.
Что сообщить о себе? Летаем. Не беспокойтесь: в небе гибнут не чаще, чем на земле...
...а еще картошек положила в баульчик. Хоть и приморожены картошки, а все сгодится – еда.
– Ходалке отдашь, она и наварит, – учила старуха, а то он такой, ее старик, тише воды.
Старик слушал, не поворачивая головы. Что-то мать разговорилась, будто и увидеться не чает через срок. А то всегда больше молчала, хоть на людях, хоть так.
– Ладно, мать, ты не больно хлопочи, чай, не навек. Слышь, мать!
А то не слышит! Натура у нее такая: слышит, да не выкажет. Соседи, бывало, ее и злой, и гордой, и как только не прозывали. Гордая, то-то и дело, уж он знает. Попусту не скажет, от малого горя не заплачет. Теперь в эвакуации, когда сын на фронте, все бы ей за стариком приглядывать: не дует ли из двери, из хозяйской половины, и как обувка — впору ли.
Руку вынул Алексей из-под лоскутного одеяла, оглядел – тонкая вся. А живот водяной, лоснится, и дыхания нет. На окошко поглядел – там красота: мерзлое стекло на солнце светится, как художество. Старуха баночку привязала к подоконнику. Того и гляди, польется вода со стекол от такой теплыни. Вот и доктор сказал: спешить надо в больницу, не то Обь тронется вскорости. Сказывают, зажор на дорогах, лошадям трудно.
«Дзинь!» – в хозяйской половине. Старуха сразу подхватилась и ступила за порог. Так и есть! Васька с Петькой глазами шныряют, а у ног разбитая тарелка.
– Это не я! – затаился меньшенький Петька.
– Ага, а кто меня под локоть? – от напраслины Васька пятнами пошел.
– Живо подбирайте, не то отец заявится! – приказала она сироткам и присела на скамейку.
Подступило к горлу, она старалась не думать, чтобы отвести невыплаканные слезы. Только где уж тут не думать! Грамотка-то вон она, за иконой бережется.
– Заявится! – согласился Васька. – И выпорет!
– А я убегу, – рассудил Петька, – он без ноги не пустится.
Петька от гордости вытер нос ладонью снизу вверх, на дверь поглядел и стал сор собирать, как и Васька, старший братан.
Не пустится, думала Катерина, как же! А не пустится, так костылем достанет. Не наказанный сын – отцу бесчестье. А то еще: «Розгой в могилу дитя не вгонишь».
Своего-то Коленьку они никогда не били. Отец – тот сроду никого пальцем не тронул, тихий был. Сама же она, хоть и по строгим обычаям сына растила, все одно меру наказания знала. Да и вырастила для войны...
У Васьки с Петькой уже испуга как и не было. Пошли вперегонки по избе. Петька ногу в печурку всунул, а махнуть наверх не поспел. Васька его за штанину, за штанину... Дрогнуло в ней что-то от их озорной необразумности. Вот и мать свою забыли, и не попрекнешь их этим – так уж устроено на земле.
В сени вышла, вытерла слезы концом платка. Как слег Алексей, так и плакать некогда стало. То он, бывало, выйдет куда, на Обь сходит поглядеть или к мельнице, а Катерина грамотку достанет из-за иконы и поплачет. На людях не откроешься. Всяк своим горем полон.
Опять вернулась в избу, и с мороза ей нежарко показалось. Так и есть, истопить бы. Инспектор, отец парнишек, не то скоро придет, не то нет, шатун. Пошла в свою половину. Алексей будто уснул, ослабел. Стеганку надела и неловко тронула на стене балалайку, по струнам пришлось. Разбудила отца.
– Далеко, мать?
– Дровец... Ты лежи, лежи!
И пошла, больше ничего не прибавила. А он глаза прикрыл, подумал: хоть старость сделала свое как надо, а старуху не переиначила. Не была к ней жизнь ласкова, а все одно лукавства это ей не прибавило. С тем и в больницу ехать ему легче, а если что, и помереть. А лучше бы дожить до победы, когда им велят ехать к себе на Оку.
Дверь приоткрылась, и просунулась Петькина голова, увидел пацан, что не спит старик, осмелел. Вошел, а сам на балалайку поглядывает.
– Дед, а хворать долго?
– Это, брат, как душа твоя пожелает...
Так, так, думает Петька. Взрослые не любят долго хворать, любят, чтобы все скоро. Вон батька как скажет: «Иди!» – стало быть, и надо тут же, не то выпорет.
– Дед, а бог есть?
– И опять же, как душа пожелает... А?
Чудные старики: у бабы Кати душа пожелала, а у деда не принимает.
– А на балалайке теперь можно? — спросил.
Дед позволил: «Ну и ладно», – через силу сказал, задышка взяла. Поглядел, как пацан инструмент со стены достает, насчет Васьки узнать захотел:
– Что-то Ваську не слыхать…
– Дрова пособляет, – растолковал Петька. – А у меня пимы драные, по снегу пятки стынут.
Действительно, Васька пособлял. Сам жерди вытаскивал из-под снега и сам их на плашку клал, и сам разрубал с одноразки. А бабке только складывать всего делов, да и то он ей подкидывал полешки к самому сараю, где проталина была. Тюкал он полешки, а сам напевал про себя: «Чувство свободы овладело мною... тра-ля-ля». Где-то услыхал, вот на язык и село. И как делу конец, то и поет себе потихоньку Васька. Мать-покойница, та все смеялась над ним – уж больно по-ученому.
Скоро в сарайчике хорошая поленница виднелась. Бабушка Катя сказала: «Будет!». Убрав седые волосы под платок, она загляделась на искрометные сугробы, которые уже как будто тепло таили в себе. У заборов, у бревен снег просел. Ночью припорошит во дворе, а к полудню в ручьи сойдет. На тропке, что от прясла к крыльцу, снег теперь не скрипнет под пимами – твердо. Васька притопнул. Отец матерится, как возвращается пьяным – склизко на твердом. Во-о дырки по краям от костылей! Говорят, на фабриках теперь такие ноги делают – не разглядишь, живое это или пластмасса.
Однако батьке ни в жизнь не дадут пластмассовую ногу: живую-то он не в жарких боях искалечил, а под эшелон попал. И было это, ясное дело, выпимши.
Васька так постоял, постоял, а после про уроки вспомнил. Охапку дров набрал и пошел, поглядывая поверх плашек на белые облака, которые, словно чистое маткино белье, были проморожены в небе.
В избе, слышно, Петька на балалайке тренькал.
– Чего ты? – напустился Васька на братана, когда дрова у припечки сложил. – Дед хворает!..
Надо бы уроки-то в субботу еще сделать, хоть бы задачки. Да деду стало худо, за врачихой бегал, воду кипятил, как она приказывала. Бабки, то-то и оно, не было дома; менять в деревню ходила, картошек наменяла.
Старуха, шагнув через свой порожек, перекрестилась на образок и молча села в головах хворого Алексея. Рукой без отчета поправила одеяло. Старик глянул на нее, как бы о чем догадываясь. И она скрепила сердце – слава богу, слез ее никто никогда не видывал. Поднялась от деда, ушла и притворила за собой дверь.
Хозяин оставил себе большую, но беспокойную комнату – проходить через нее приходится. Они с Алексеем, верно, норовили носа не казать, а все же приходилось. Вот и вчера она взяла салазки и подалась в соседнюю деревню кой-что выменять. Коленькин аттестат тут не подмога. Вернулась затемно. Инспектор уже спал и чего-то очнулся. Пошел ерихониться: и кровь-то он свою проливал, и детей сам растит, и при должности немалой, а никакой о нем заботы у государства. «Выковыренных», говорит, зачем к нему подселили? А вот он обзаведется новой хозяйкой и что тогда?
Жена недавно умерла, могила еще просесть не успела...
Васька сейчас уже лучины наколол косарем. Квартирантке осталось в печке разгорнуть золу и огонь вздуть той спичкой, какую Петька отломил от дощечки – спички такие стали делать, на манер гребенки.
Ну вот, а теперь поленьев сверху, занялся огонь.
– Баб, я в подпол слажу, деду сальца возьму, в больнице пожует, – хозяйски рассудил Васька и уже нагнулся для такого дела.
– Ага, – обрадовался Петька, – а батьке сказывать не будем.
– Ну-ка, цыц! – голос у бабки возвышается до самой строгой строгости, от которой и хозяин заробеет иной раз, если не пьяный. – Не нищего звания мы... – И не хватило у нее сердца дальше говорить. Потрепала Петьку по голове, голубоглазого сиротку. – Ох, царица небесная, мать пресвятая богородица!..
Петька было, опять тренькать стал на балалайке, да Васька на него шикнул и глазами показал, где старики переговаривались.
– Мать, а ты тут не горюнься...
Ишь, думал Васька, старик Петьку обучил на инструменте, так он теперь то «Камаринскую», то «Подгорную» – пимы не подшиты, на улицу и думать не моги, теперь дома забава вышла.
– Проведать приеду, бог даст, – голос старухи.
– Васьк, а чего это – философ?
Васька арифметику вынул из сумки военной, разложил все, чтобы решать. Сумку-то дядя Коля с фронта прислал, а квартиранты ему ее задаром отдали.
Философ пас коров, пронеслось в мыслях у Васьки, и он ответил, подчеркивая свое старшинство:
– Мал ты еще толк в этом знать.
А в той половине голос старика, слабый, с передыхом:
– Ты Коленьке не пиши... Сердце без тревоги – рука... тверже.
Услыхал Васька про дядю Колю и арифметику отодвинул. Повелась такая несправедливость, когда взрослые – хоть соседи, хоть мать покойница, – отчитывая братьев за что-нибудь, сказывали, что Васька не больно умом перешиб Петьку, даром что в школу ходит, и все такое. Обидно сказывали, а ведь знали, какой Васька на улице первый закоперщик. А там как-никак соображать надо. К примеру, сейчас он такое придумал... Вот кабы ящик сыскать из фанеры!
Он притворил дверь, чтобы голосов не слыхать было, и Петьку поманил. Пока братан соображал, он подкинул поленьев в печь, сдвинул чугунок ухватом, а то одним боком греется.
– Слышь, Петька, давай посылку дяде Коле справим для фронта!
Кое-что Петьке растолковывать не надо — скоро да него доходит. Стал он коленками на лавку, а локтями по столу пошел елозить от интереса и нетерпения.
– А чего отсылать? – спросил.
То-то и оно – чего? Кабы мамка была жива, так она бы им всего наготовила: и лепешек, и из одежды что. А они, братья, с мамкой и от отца таиться бы не стали.
– Тайное место определим, туда и складывать будем, чать, накопим.
– Ага, – одобрил Петька, – в подвале определим, батька туда по склизкому не больно...
– И то, – рассудил старшой. – Сала положим, рукавицы бы добыть или куфайку, грудь чтобы в тепле.
Про грудь мамка им говорила. У Петьки, так у того грудь слабая сроду. Чуть снегу поест, а то сосульку – вот и бухает ночью. Мамка ему и скипидаром спину натирала, и над картошками дышать велела. Уж Васька знает – держи грудь в тепле, не то — чахотошным станешь. Оно, конечно, к весне дело. Вон и капель, и на небе светло. Да не сулят, что война скоро кончится. Выковыренных много понаехало – почитай, в каждом доме на постое. Да это ништо. Вон у них бабка с дедом стоят, так заместо матери бабка.
Поможем же фронту, ребята...
– Петька, я стих составлю, в посылку всунем.
Братан уставился на него круглыми бараньими глазами.
Поможем же фронту, ребята, поможем упорным трудом!
– Васьк, а правда дедушка Алеша мельником был?
У Петьки к стихам интересу никакого. А ведь знает, что был мельником дед. Так нет – спрашивает.
Васька сердито бумагу придвинул – не замай. Карандаш грызть стал, словно Пушкин на портрете.
– На фронт отсылайте в посылках, – прочитал он громко. – На фронт отсылайте в посылках одежду, чем полон ваш дом... Поможем же фронту, ребята! Поможем упорным трудом!
И только рукой успел махнуть на манер артиста, который в клубе, а тут – блям! – в сенях. Бум! – на мерзлые половицы. Не иначе как отец чугунок свалил.
Однако вошел раньше фельдшер, баульчик в руках. А уж потом отец неверную деревянную ногу через порожки переставил. И, видать, пошла изба по горнице, а сени по полатям! Мотнуло его, и глаза в сумочках.
Медик спросил:
– Где больной?
Баба Катя вышла из своей половины, медику рукой показала – сюда ступай. И Васька с Петькой туда же, а отец остался, сейчас запоет в тепле про ямщика, который ехал в степи глухой.
– Ну! – краснорожий фельдшер приподнялся на носки пимов и оглядел людей, словно ему должны тут. – Скоро? Кабы самому не нужда в городе, разве б я... Как-никак – воскресенье...
– А старуху не прихватим? – спросил старик, пытаясь кротостью ублажить краснорожего.
Надо бы сунуть медицине харча, не спахнулся.
– Местов нет, – отрезал краснорожий. – Баба на возу – лошади каково? – Засмеялся, сел на середку скамейки. – А что? Расставанье хуже смерти? – Вме¬сте со скамейкой подвинулся к стариковой кровати, а старик в аккурат уперся руками в край, чтобы дышать легче и старухе сподручней управляться с его опояской. – Это кабы в молодости, а то... Небось это слово-то, дед, у тебя давным-давно с мягким знаком пишется, а?
Старуха выпрямилась. Васька уже заерзал на ме¬сте: знал, как бабка может отшивать – за милую душу! А тут батька дверь расхлебянил.
– Доктор! – позвал медика. – Давай по баночке приспособим? Для дороги больно хорошо, размори тебя жара!
Краснорожего уговаривать не надо. Его так и вы¬несло на голос, на харчевый дух. А отцу все мало – куражится:
– Эй, можа и хворому... посошок на дорожку или как там – стремянную?
Бабка подошла к хозяину и пригнула его голову:
– Шайтан гололобый!
Проку никто не увидал. У отца в голове хужеет, когда выпьет малость.
– А что скажешь? Христос завещал кровь свою... Оно, конечно, кровь в бутылке не красная... Верно! Однако же и не водица. О!
У бабки-квартирантки брови в одну линию сошлись, и губы тонкими стали. Пацаны заметили: отец в таком разе всегда норовил уйти от греха. А сейчас не ушел. Крикнул, слыхать было:
– А фрицы-то, слышь, прут! Вот те и бог!
Бабка волосы седые заправила под платок, сказала деду:
– А у своих врагов рожа красна...
Дед не любил свары, перевел разговор:
– Ты проведать приезжай. Как скучишься, так и ладно...
Васька к Петькиному уху наклонился и зашептал:
– Сопрем сейчас бутылку, запрячем. А там в посылку ее. Дяде Коле погреться: наверху-то холодно в кабинке...