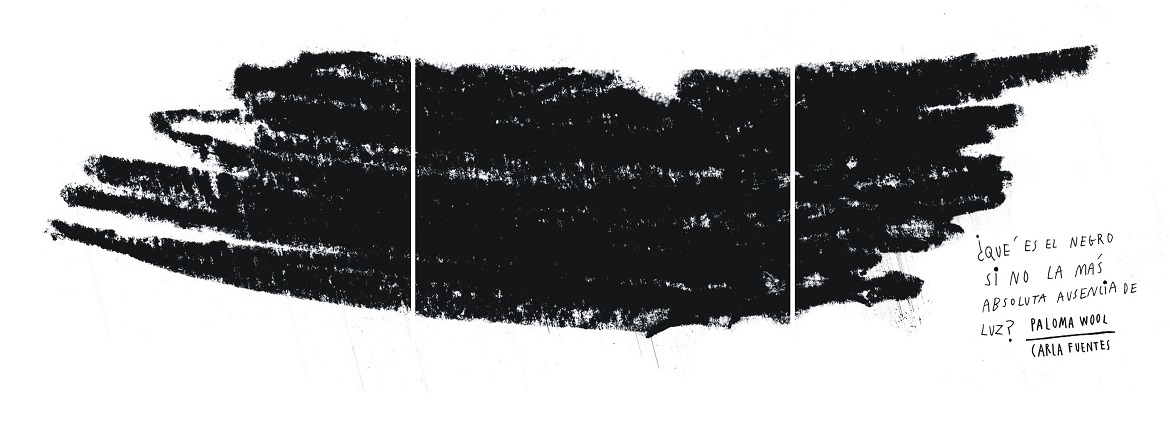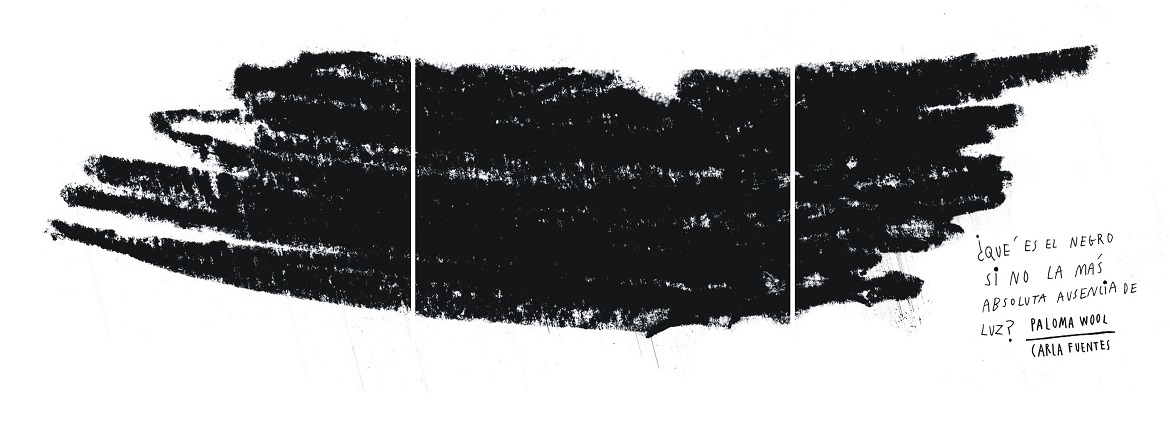*
Яблоня, как дождь, стоит в саду –
словно форточка у холода во рту,
на щеколде почки и цветенья
обращаясь в мёд или росу,
в голос свой, его чужую стужу,
иней, что лежит на облаках,
как бы пёс пришедший человека
говорить и, словно смерть, лакать.
Изымая голоса, как рыбы
вынимают птицу из иглы,
яблоня воды стоит у смерти,
в форточку из мглы своей глядит.
*
Раннее чистилище. Стоишь
как душа, что – раздвигаясь вниз –
будет домом, деревом, двором
лепетом младенца на хромом,
то есть непонятном, диалекте
свёрнутом морозом, как свистком,
циркуля прозрачным лепестком –
отчего теперь тебе не страшно.
Смотришь в неба фьорд, как будто шьёшь
в нём округу, руки, пальцы, птицу,
зашивая глину в белый дождь,
что летит в прозрачную глазницу,
где вокруг тебя кипящий шар
нижет щель твою на голоса и спицы
что осталось здесь? кромешный пар
и – летящие на свет – парашютисты.
Черновик игры
Выходишь из ворот, а там – зима
тебя произносящая, как «ма»,
прикинется то лялькою, то люлькой,
качающейся справа от тебя –
пока геометрически смешна
её иссиня-тонкая фигурка.
Играем в шахматы, две морды, ты и я,
две лошади, что тенью в звук согнуты –
где чудится фигура из огня,
которая дымится, как искусство,
за лыжником, который от меня
оставит пар и светом ляжет густо
на чёрный воздух, трубку и трубу
из простоты, которая пока что
ещё не стала ящиком, куда
нас сложат, что – возможно – нам на счастье –
пока течёт вокруг камней вода,
похожая на лопасти и пасти
тех, что ожили в ней – пока мертва
она жила и прожигала или
не вспоминала почему сюда
её, окаменевшую, сложили,
как на щеке вдруг ожила звезда,
окаменев до крови или жилы
Всё дышит – даже если этот звук
внутри, и оттого нам не заметен,
не заметён как шахматы в свой стук,
в улитку лёгких, что теперь стозевны,
растут, как дерево сквозь зимы, как игру,
где катятся в повозке земли звери.
Они растут снежками, как следы
взрываются комками воробьиной
прозрачной крови, речи, как любви,
что рассекают небо львиной гривой,
и оставляют шрам, голосовой порез
средь темноты, что вырезана в выдох.
Предложение
Возвышенность рыбы, взошедшей на землю, глаголет:
люблю я твоё, человече, зиянье ладоней –
кто тронет тебя – тот болит и сосчитан увечьем,
кто знает тебя – тот уже никогда не утонет,
где кольца пойдут годовые, на жабры воды нарастая,
отметин царапая мох, на котором и свет выгорает,
кипит, как январский снежок, что прикинулся краем
ожога, что спит в рыбаке, как улов выбирая
следы или камни, ослиц, диалекты, пустоты,
сухой намозоленный выдох совершившейся глыбы,
отверстое небо, что рядом стоит в подаянье –
где слеп снегопад и подобен крутящейся яме,
ведущей наверх, словно - язвы слоящейся – полость
внезапно мерцает из мглы и смерзается в посох.
*
Когда закончится искусство –
и шарики из тишины
облепят свет, который густо
в кустах сиреневых бежит,
бежит по этим синим венам
из крови дождевой своей
где спрятан так, как будто смерти
ты избежал (вот этой, всей),
не лопай шарики молчанья
и пей, как жажду, мокрый сад
кузнечиков, что – как ожоги –
из каждой веточки летят.
*
Во мне по утрам живёт орфеева голова,
выходит со мной в новый Иерусалим –
засовы её крепки, хотя и скрипят,
глаза открыты и мир, как вдова, горит.
Ходики изнутри у неё стучат –
говор смутен, словно аккадский, или
выжженная на лбу у осла печать
времени, что с морем во мне забыли.
Медленно ключ творит в скважине оборот,
ощупывает в темноте лобную, затылочную или темень,
Аид, который каждый из нас – пока он плод,
голоса стебель, сжатый светом тяжёлым в семя.
Слышу, как тик, этот ключ, кодировку, ход –
так отверзаются ямой часы за стеною
и, как колодец из человека похож на код,
так и пустоты во мне равны со мною.
Их заполняет небо, парковый шелест, звезды
лицо удлинённое до ночи кромешной и слепца, что предметы
делает речью своей, движением пустоты
и, словно лёд в гортани, выжигающим светом.
И расширяется орфеева голова, словно тропа
по которой всплывут со мною
эти ошмётки неба тире песка
дерева или адского перегною,
и каменеет волна, как слепой прозрев,
и выжигает, как лев, всё нутро обузы,
и ты – словно выстрел – вдаль от себя летишь
там, где шумит, как раковина расширяясь, голова медузы.
Круги
Когда колодцем станешь ты
и будешь так легко
внутри себя на всё смотреть –
на то, что далеко
по-птичьи с небом говорит
или горит внутри –
покажется, что это ты
в дыханья чудо вшит,
как ампулка в густой реке
и лодка на волне
земли, свернувшейся в руке,
как миновавший гнев –
гемоглобин твоей любви,
что развернулся в кровь
и – словно голубь – в ней летит
по кругу – вновь и вновь,
и плещется его вода –
жива пока мертва,
и строит города свои
из всплеска и песка.
Возьмёшь себя в свою ладонь,
как жажду, где спит дождь,
и – будто от весла круги –
ты по себе пойдёшь.
*
Как рубанок идёт человек, собирая всю почву под ноги,
развернувши комок мокрых слов до фантомов из глины
там, где лошадь и плуг, словно пашня, уже неразрывны
и глядят на засвеченный почвой своей фотоснимок,
где летящая стружка забьётся у тьмы в диафрагме
словно рыба, что тянут на свет из дыры меховые ладони –
там возможно, что есть воскресенье, и оно неотвратно –
как и звук до которого скоро дотянемся – тронем
мы его поводок – вот и по воду славно сходили:
половина земли на гектар – вниз пролитых – протеев,
а рубанок строгает колодезь, который они испросили,
у растущих из неба, как заводи, чёрных деревьев.
*
Ты плетёшь за собой коридора щенка, оставляя
тёмный голос, вернувшийся в кровь, которая слово печёт
и, нащупав себя – словно эха кусок – до судьбы немоту возгоняет,
зрея в белый разрыв или жала двойное число.
Так бессонница вынет тебя из кармана, как время,
и в зазоре её – никогда незаконченный – дом
снова впустит тебя и щенка, как клубок между спиц в этот омут,
где длинней темноты – в дождь завязанный – неба платок.
Слепоты твоей зёрна, которые посох и птицы,
как воронку бессмертья вяжут из света щенка –
это небо к тебе наклонилось и плачет сквозь руки,
распечатав простор, как пещеру сквозная вода.
ΚΆΘΑΡΣΙΣ
Сергею Ивкину
Человека круги расходятся над головами,
как то озеро что его развернуло, как камень,
сняло всякий ослепший его лепесток
положив головою, лёгкими на восток
а с востока летят птицы, звери, зиянье
его будущих мест, его прошлого окликанье,
его дети, земля, дерево, вхожее в дом,
ласточки с разрезанным животом.
Он лежит в водяной, раскалённой, дождевой стружке,
думает о памяти, как о подружке,
снимает слепок с лица, с ладоней своих отпечатки,
сказанного и умолчанного опечатки,
остаётся кругами ткущими над облаками
новую пряжу, мёрзлым дёрном под сапогами
и лежит без лица, обёрнутый тёплым светом,
в ласточке, как в молоке, что спешит с ответом
Двоение
То отражение, что держишь ты,
пытаясь его – словно бег – упустить
в кадры, застывшего вдоль, кино –
остаётся тобой всё равно.
Скажем: ты говоришь, что оно
проговорило тебя – верно
и первое и второе, или
вся соль здесь в шиле,
в нитке, за шилом лежащей и
связующей края вашей пустоты –
твоей и того, второго –
совсем другого.
Так каждый раз повторяешь речь,
которую он так хотел сберечь
в молчанье своём – за которым грай
что изрекай
ты, как будто не одинок,
а ломоть из стаи тех сорок –
срок бы закончился прежде, чем помер
ты – и в том был номер,
что оставался бы лишь один
когда ты таял весной средь льдин,
в которых земля притворилась хлебом
и – где он не был
пока что ты отпускал синиц
лакать его все сто сорок лиц,
а он тебя охранял от смерти
как пёс от цепи.
*
Только и ценится то, что стоит пурга,
скальп черепахи на голове стола,
и головёшку выдоха, как раковину, сосёт
крикнешь в неё и услышишь ответом: вот
здесь серебро и путы, густы пути,
гуси летят на север, чтоб умереть с тоски,
всякий прохожий – путь, не нашедший себя,
потому он примерил плоть = эти два угла
слева и справа, чтоб они – осветив его -
объяснили ему, что перевёрнутая гора –
это кружка и хлеб, как и лодка – всегда весло,
и лишь человек – пока жив – от себя нора.